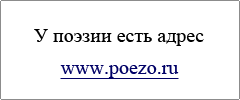А. Демченко. Шостакович-педагог. К 120-летию со дня рождения
 Как правило, огромное множество материалов, адресованных наследию Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, обращены к рассмотрению его творчества. Но была ещё одна немаловажная, притом выдающаяся грань его деятельности — музыкальная педагогика. В этом отношении единственным «конкурентом» ему можно считать, пожалуй, только Николая Яковлевича Мясковского, как в сфере симфонизма (27 симфоний), так и воспитавшего в своём классе композиции более 80 учеников, среди которых были В. Шебалин, А. Хачатурян, Д. Кабалевский, Г. Галынин, А. Эшпай. Шостакович отдал педагогике много сил, работая в Ленинградской и Московской консерваториях и свидетельством больших результатов в этой области являются такие его воспитанники, как Г. Свиридов, К. Караев, Г. Уствольская, М. Вайнберг, Б. Тищенко. Для вящей убедительности обратимся к первому и последнему из названных имён.
Как правило, огромное множество материалов, адресованных наследию Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, обращены к рассмотрению его творчества. Но была ещё одна немаловажная, притом выдающаяся грань его деятельности — музыкальная педагогика. В этом отношении единственным «конкурентом» ему можно считать, пожалуй, только Николая Яковлевича Мясковского, как в сфере симфонизма (27 симфоний), так и воспитавшего в своём классе композиции более 80 учеников, среди которых были В. Шебалин, А. Хачатурян, Д. Кабалевский, Г. Галынин, А. Эшпай. Шостакович отдал педагогике много сил, работая в Ленинградской и Московской консерваториях и свидетельством больших результатов в этой области являются такие его воспитанники, как Г. Свиридов, К. Караев, Г. Уствольская, М. Вайнберг, Б. Тищенко. Для вящей убедительности обратимся к первому и последнему из названных имён.
Говоря о первом из них, для начала напомним необходимые биографические данные. Георгий Васильевич Свиридов (1915–1998) родился в небольшом городе Фатеже близ Курска. Музыкой начал заниматься с семи лет там же, а затем в музыкальной школе Курска, где начал сочинять. С 1932 года он в Ленинграде, в Центральном музыкальном техникуме — вначале по классу фортепиано (И. А. Браудо), затем по композиции (М. А. Юдин). В 1936–1941 годах занимался на композиторском отделении Ленинградской консерватории по классу композиции П. Б. Рязанова, а позднее у Д. Д. Шостаковича.
Шостакович был всего на девять лет старше Свиридова и выделял его среди своих учеников того времени: «Он всегда просто поражал меня своим творчеством. Очень быстро писал, буквально на каждый урок приносил что-нибудь новое — пьесу для фортепиано, романс, песню. Со школьной стороны в его сочинениях было всё в порядке. Я, как педагог, терялся. Не знал, что сказать: ни к чему нельзя было придраться».
Своеобразным знаком признания дарования своего бывшего студента явилось то, что выдающийся мастер процитировал в своей Одиннадцатой симфонии одну из его тем. С началом войны Свиридов, только что ставший выпускником консерватории, был зачислен курсантом военного училища, из которого в конце 1941 года его демобилизовали ввиду сильной близорукости. Работал в Самаре и Новосибирске, с 1944-го вновь в Ленинграде, с 1956-го и до конца жизни — в Москве.
Итак, Георгий Свиридов родился в 1915 году, то есть в середине того десятилетия, когда во многом в противовес предшествующей классике бурно утверждало себя искусство XX века. Для отечественной музыки это более всего было связано с радикальной новизной раннего творчества И. Стравинского и С. Прокофьева — ведущих представителей первого поколения современных русских композиторов и в 1920-е годы к ним присоединился Д. Шостакович. Второе поколение русских композиторов ХХ столетия выдвигалось на художественную арену в 1930-е годы, и Свиридову суждено было стать самым значительным из них.
Внушительный отрезок его творчества середины ХХ века связан с влиянием Шостаковича. Косвенно это влияние более всего проявилось в том, что после первого вокального шедевра («Шесть романсов на слова А. С. Пушкина», 1935) у молодого композитора надолго произошло переключение интересов в сферу инструментализма. Причём среди множества апробированных им тогда жанров есть и такие, к которым в период своей законченной зрелости он совершенно не прикасался (два фортепианных концерта, два квартета, две партиты для фортепиано, Симфония для струнных и т.д.).
Но воздействие Шостаковича сказалось и самым непосредственным образом. При этом любопытен и труднообъясним тот факт, что наиболее ощутимым оно было в пору отсутствия прямого общения со своим наставником по консерватории, то есть не в предвоенные и послевоенные годы, а в годы войны, когда они находились не в Ленинграде, а в разных городах, далеко друг от друга.
Имеется в виду блок инструментальных композиций, очень близких аналогичным опусам Шостаковича того же времени — близких и по трактовке жанра, и по типу концепционности. Таковы Фортепианная соната, которая стала в некотором роде «двойником» Второй фортепианной сонаты Шостаковича, Фортепианное трио, написанное годом позже Фортепианное трио № 2 Шостаковича, и Фортепианный квинтет, который появился с наибольшим интервалом по времени создания: 1940 год у Шостаковича и 1945-й у Свиридова.
Самые тесные сближения с характерной стилистикой Шостаковича наблюдаются в медленной части Фортепианной сонаты. Их много в Фортепианном трио, особенно в бурлеске II части, напоминающей скерцо Виолончельной сонаты Шостаковича, и в хорале-пассакалье коды финала. Наконец, Фортепианный квинтет перекликается с аналогичным произведением Шостаковича прежде всего своей ярко выраженной неоклассической направленностью.
К сказанному стоит добавить, что «след в след» за вокальной серией Шостаковича «Шесть романсов на слова английских поэтов» появляется вокальный цикл Свиридова «Из Шекспира». Побудительным мотивом их создания в обоих случаях послужили «союзнические» соображения, связанные с настоятельной необходимостью открыть второй фронт.
В известной мере, находясь в подобных опусах в русле шостаковичевского творчества, Свиридов многое делал по-своему. Тем не менее, чтобы окончательно «вырваться из объятий Шостаковича», Свиридову понадобилось ещё едва ли не десятилетие. Со всей очевидностью этот прорыв «к себе» продемонстрировал последний вокальный цикл, написанный в Ленинграде — «Песни на слова Роберта Бёрнса» (1955).
Касательно другого воспитанника Д. Д, Шостаковича позволю себе страничку сугубо личного. Имеется в виду ленинградский-петербургский композитор Борис Иванович Тищенко (1939–2010), и связана эта страничка в немалой степени с его Первым виолончельным концертом и с тем единственным случаем, когда мне посчастливилось встретиться с Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем.
Но прежде небольшое отступление, касающееся очень важного момента: в 1960-е годы именно в отечественной музыке впервые удалось совершить подлинный прорыв в принципиально новое звуковое измерение. Речь идет о так называемой «чистой» музыке, то есть музыке, не опирающейся на литературный текст или на сюжетную канву, которая подразумевает участие ресурсов театра и кино, и не предполагающей какого-либо программного замысла. И оказалось, что средствами такого рода музыки можно со всей отчётливостью раскрыть ситуацию конфликта личности и среды.
В условиях этого прорыва на самый передний план выдвинулся жанр инструментального концерта. Его фактурная организация словно бы изначально предназначена для того, чтобы показать соответствующее расслоение: с одной стороны, есть solo (олицетворяет индивидуально-личностное начало), а другой — оркестр, многотембровое tutti (как бы репрезентирует всё остальное, большой окружающий мир). Смысловым потенциалом подобного расслоения как раз и воспользовались отечественные композиторы в целях моделирования конфронтации личности и среды. Хронологически впервые это произошло в 1963 году с появлением только что упомянутого Первого виолончельного концерта Бориса Тищенко.
Противостояние solo и tutti выявлено здесь с исключительной акцентированностью ввиду того, что композитор отсекает от симфонического оркестра всю струнную группу, противопоставляя солирующей виолончели подчёркнуто жёсткое звучание массива духовых и ударных. Драматургия произведения построена на резко контрастном сопоставлении этих тембровых факторов, и стремление солиста отстоять свою «суверенность» завершается неутешительным итогом: на кульминации подавляющий натиск оркестра приводит к почти физиологически переданному в партии solo пониканию-опаданию в глухоту самого нижнего регистра.
В этом концерте мы становимся свидетелями того, что неизменно отличало опусы подобного рода. В раскрытии конфликтных ситуаций авторские симпатии были всецело на стороне индивида, образ которого всегда преподносился в заведомо позитивном освещении, а среда зачастую изображалась в самых черных красках — как жестокая, негуманная, в тоге карающей десницы.
И еще один показательный штрих. В разработке кардинально новых художественных идей того десятилетия многие из творческих инициатив исходили преимущественно от молодых авторов, составивших тогда ядро «шестидесятничества». Среди них был и Борис Тищенко, которому ко времени создания Первого виолончельного концерта исполнилось 24 года. Как раз это и приближает к рассказу о моей встрече с Д. Д. Шостаковичем.
 Уже говорилось о том, что он являлся основателем, пожалуй, самой представительной отечественной композиторской школы ХХ века. Борис Тищенко в ряду его учеников был одним из последних и самым любимым (в поэтической лирике есть такое понятие — последняя любовь). Настолько любимым, что Шостакович семь раз ездил из Москвы в Ленинград на премьерные спектакли его балета «Ярославна». И это незадолго до кончины, уже будучи очень больным и, конечно же, поглощенным работой над своими последними творческими замыслами.
Уже говорилось о том, что он являлся основателем, пожалуй, самой представительной отечественной композиторской школы ХХ века. Борис Тищенко в ряду его учеников был одним из последних и самым любимым (в поэтической лирике есть такое понятие — последняя любовь). Настолько любимым, что Шостакович семь раз ездил из Москвы в Ленинград на премьерные спектакли его балета «Ярославна». И это незадолго до кончины, уже будучи очень больным и, конечно же, поглощенным работой над своими последними творческими замыслами.
Понять подобную расточительность великого мастера в какой-то степени можно. Он был горд за своего бывшего аспиранта, который с честью выдержал творческое состязание с всесветно прославленным шедевром на ту же тему — имеется в виду опера Бородина «Князь Игорь». Действительно, из-под пера Тищенко вышла гениальная партитура, вставшая в один ряд с лучшими балетами ХХ века.
Я тогда часто бывал в Ленинграде, поскольку меня чрезвычайно интересовало творчество молодых композиторов северной столицы. На материале творчества С. Слонимского только что написал дипломную работу, которой заканчивал Саратовскую консерваторию. А рядом с ним на берегах Невы «произрастали» такие разные, но все по-своему самобытные С. Баневич, Г. Банщиков, В. Гаврилин, А. Петров, Л. Пригожин, Ю. Фалик и, разумеется, Б. Тищенко. С ним мы сошлись довольно близко, в том числе и потому, что я был всего на четыре года моложе его.
В один из моих тогдашних приездов в Ленинград я по приглашению Бориса оказался в Малом (Михайловском) оперном театре. После спектакля, заглянув за кулисы, чтобы поздравить композитора, увидел рядом с ним очень оживлённого Шостаковича. Тищенко хотел представить меня Дмитрию Дмитриевичу, но тот сказал, что припоминает меня, так как года два назад я был у него в Москве. «И знаете, Боренька, он задал мне очень каверзный вопрос, касающийся вашего виолончельного концерта. Помните, я вам рассказывал об этом!» И тут же перевел разговор на «Ярославну», спросив, впервые ли я это слышу и вижу, сразу же добавив, что лично он на спектакле не первый раз.
Я ещё ничего не успел сказать, как включился Борис и не без некоторого ехидства сказал: «Боюсь, что Саше больше по душе мой предыдущий балет. И ведь написан он, Дмитрий Дмитриевич, в том самом 63-м, что и Первый виолончельный». Он имел в виду свой предыдущий балет «Двенадцать». Меня, по правде сказать, смешало окончание его фразы «Первый виолончельный» — значит, есть и Второй, а может и Третий. Я полагал, что уже довольно хорошо знаю творчество Бориса, но ничего не представлял о существовании другого или других виолончельных концертов.
В эту минуту к нам подошли дирижер и хореограф, а я благополучно ретировался, вспоминая фразу Тищенко о «предыдущем балете» и решая для себя, что же мне «больше по душе»: «Ярославна» или «Двенадцать». Действительно, в ту пору я был очень увлечен первым балетом Бориса, в котором находил чрезвычайно оригинальное претворение традиций русского скоморошества, а в поэме Александра Блока искал подтверждения возможности подобного её истолкования (позже на этот счёт я написал целую статью).
Что касается Шостаковича, то это требует дополнительного и самого важного пояснения. Дело в том, что в Саратовской филармонии примерно за два года до описанной моей мимолетной ленинградской встречи с ним прошла местная премьера его Пятнадцатой симфонии. Я в то время был ещё студентом, активно сотрудничал с местной газетой «Заря молодежи» и взялся отрецензировать эту премьеру. Редакционный совет газеты составляли тогда совершенно замечательные молодые люди, не случайно позднее его добрая половина перекочевала во всесоюзную «Комсомольскую правду».
Интерес к предстоящей премьере подогревал тот факт, что дирижировал сын композитора, Максим Шостакович. Кстати, это была едва ли не самая большая его исполнительская удача, вполне выдерживающая сравнение с классической записью Пятнадцатой симфонии, сделанной Кириллом Кондрашиным.
Главный редактор газеты, человек весьма сведущий в искусстве, памятуя культурную хронику дореволюционных лет, предложил: «Попробуй сделать так, чтобы твоя рецензия появилась уже в завтрашнем номере». Действительно, в начале ХХ века практиковалось именно такое: вечером художественный критик присутствовал на концерте или спектакле, ночью спешно писал свои заметки, и наутро читатели уже могли с ними ознакомиться.
Мне оставили в газете два больших столбца, после концерта я примчался в редакцию, исписывал листок за листком, а выпускающий редактор делал корректуру и тут же относил в набор.
Мало того, накануне главный редактор подал ещё одну идею. Представляя значимость Шостаковича и пользуясь случаем исполнения его симфонии в нашем городе, он предложил командировать меня в Москву, чтобы взять у выдающегося мэтра эксклюзивное интервью для «Зари молодежи». Говорю это в назидание нынешним газетчикам — представить себе подобное в наши постсоветские времена просто невозможно.
Обо всем этом я предварительно договорился с Максимом Шостаковичем, назавтра вручил ему несколько экземпляров только что вышедшей газеты и стал ждать звонка из Москвы. Через пару дней мне было сказано, что Дмитрий Дмитриевич с интересом ознакомился с рецензией и послезавтра, в одиннадцать утра смог бы уделить мне небольшое время.
Тогда я даже не удивился тому, что великий композитор назначает встречу какому-то студенту какой-то Саратовской консерватории. При всём моём пиетете по отношению к нему, по молодости лет я только порадовался удаче, не сознавая, какой подарок мне преподнесла судьба. Получил в редакции командировочные, приобрёл билеты, составил вопросы (некоторые из них принадлежали опять-таки главному редактору) и в назначенный час постучал в дверь квартиры Шостаковича.
Его супруга строго предупредила меня о нездоровье композитора, что ограничивало время моего пребывания в доме 15 минутами. Потом она входила к нам дважды и пыталась выпроводить меня, но нарушение регламента исходило от самого Дмитрия Дмитриевича, который охотно отвечал на вопросы, и, в свою очередь, расспрашивал меня. Особенно его интересовали музыкальные вкусы молодежной среды Саратова.
Под конец нашего разговора я набрался храбрости и самым коварным образом завёл речь о Виолончельном концерте Тищенко (тогда он был для меня ещё единственным). Этот концерт я считал настоящим откровением, и мне было известно, что Шостакович переоркестровал партитуру на полный симфонический оркестр. Считая, что художественный эффект оригинала в немалой степени базируется на изъятии из оркестра струнной группы, я усомнился в целесообразности каких-либо изменений. Дмитрий Дмитриевич ответил мне на это примерно следующее.
«Поначалу сделанное Боренькой (Дмитрий Дмитриевич называл его именно так) вызвало у меня недоумение, это показалось просто дерзким тембровым кунштюком. Я решил преподать ему наглядный урок, переделав всё на более привычный лад. И каюсь в содеянном, это была моя ошибка. Позже я понял безусловную правоту Бореньки — как говорится, ученик превзошел учителя. В 60-е годы пришло поколение очень талантливых музыкантов. Они были смелее нас и сумели что-то важное открыть и для нас, старших».
И когда я, желая искупить свою бестактность, совершенно искренне стал превозносить его Второй виолончельный концерт, написанный тремя годами позже концерта Тищенко, он не без лукавства сказал: «Если Вы действительно цените это мое сочинение, удалось ли Вам заметить, что там использовано звучание большого барабана — самого́ по себе, словно это солист?»
Я ответил, что эти фрагменты в его концерте всегда действовали на меня просто убийственно, как выражение какого-то сознательного авторского «антиэстетизма». Тогда Дмитрий Дмитриевич рассмеялся, а потом помрачнел: «Именно этого я и добивался. Ненавижу монстров в любом их обличье». И помолчав, смягчившись, добавил: «Этого монстра-барабана я бы не придумал, не будь того концерта Бореньки».
Не приходится говорить об этом истинно отцовском отношении Д. Д. Шостаковича к своему любимому ученику, в котором он видел в высшей степени достойную композиторскую и человеческую смену. Для меня эти штрихи всегда оставались самым весомым аргументом в подкрепление моего собственного преклонения перед Божьим даром Бориса Тищенко.
Фрагмент Второго виолончельного концерта Д. Шостаковича (В. Фейгин)
Фрагмент Первого виолончельного концерта Б. Тищенко (М. Ростропович)
Вы можете помочь «Музыке в заметках»
Комментарии
Вы можете добавить коментарий в группе VK или Одноклассники.