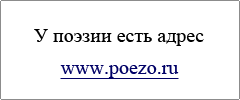Теория исполнительского искусства. Лекция
Любая теория, 1 как и дом, строится с фундамента, а не с крыши. Фундамент — представление о последней цели высокой музыки, которая есть красота — язык любви, чудотворящей силы бытия. Можно ли любить и одновременно думать: «Фу, какая гадость»? О наивысшей красоте ревнуют исполнители, а слушатели подтверждают ранг их гениальности.
Красота, как и любовь, не навязывается. Восторг красоты обретается через синергию (со-работничество, со-творчество) наших устремлений к ней и небесных вдохновляющих подхватов и ободрений. Выдумать, придумать красоту так же невозможно, как поднять себя за волосы, Шедевры не возникают без вдохновения, а оно, словно прекрасная гостья, по слову Чайковского «не любит посещать ленивых». От нас — усилие, от бессмертной красоты — озарение. Это и есть синергия, сотрудничество земли и Неба. «Музыка есть откровение, более высокое, чем мудрость и философия», — говорил Бетховен, великий труженик, как и Чайковский.
Нет музыканта, который поставил бы себе цель жизни: «Стану самым скверным скрипачом на свете»! Это противоестественно, потому что императив человеческого бытия — не «хуже», а лучше. — Не из соперничества друг с другом, а по призванию к несказанности. Где есть сравнительная степень («лучше» от «хорошо»), — там не может не быть и превосходной степени, которая дает направление, перспективу и силу бытию.
Синергия же являет собой всеохватный закон, который характеризует способ вдохновенного бытия, к которому призваны люди. Она пронизывает тысячелетия и всякое мгновение. Ее творящей силой поднималось человечество, воздвигались цивилизации, свершались открытия, рождались шедевры искусства, и каждое мгновение в них — чудо. Тогда наполняется бессмертием всякое слово. Зачем нам слова как деревяшки или с трупным запахом? Каждое слово призвано животворить, преображая. И то, что между словами, — тоже. «Люблю цезуру на второй стопе» (Пушкин, «Домик в Коломне»). «Я вас люблю» — вот она, цезура на второй стопе! Можно ли не замереть в восторге и болтать дальше скороговоркой? «Чего же боле?» — продолжает Татьяна письмо Онегину. «Я вас люблю. Люблю безмерно», — поет князь Елецкий в опере «Пиковая Дама»
А без волшебной силы синергии мы животные. Исполнение без вдохновений свыше — жало смерти.
Исполнительский музыкальный слух — синергийный орган поиска небывалой красоты, и приемник озарений. «Музыка есть откровение, более высокое, чем мудрость и философия» (Бетховен).
Вокруг синергийной сердцевины исполнительской теории вращаются фундаментальные исполнительские навыки (прикосновение к звуку, синергийное слышание цезуры, эмфатический акцент2).
Красота — одна, а проявлений много. Они бесчисленны. Пропитывают все без исключения поры музыки. Потому можно и нужно говорить об исполнительской теории гармонии, полифонии, метра, о тайнах исполнительской фактуры, синтаксиса, формы (говорил же Глинка: «форма, что значит красота»). Нет ничего в теории музыки, что не было бы предметом внимания исполнительского искусства.
Синергия, способ жизни в красоте, — тоже едина, но является в двух формах: как синергия состояния и синергия процесса.
Акцент на первой форме видим в архаичной песне, ритуалах, в церковной музыке: в византийском пении с исоном, в русских стихирах, в мессах Палестрины, отчасти в произведениях барокко. Музыка здесь — звуковая икона. В нее молитвенно вслушивается душа. Музыка-икона синергийна: от нас — усилие предстояния пред святостью, а от нее — перемена в душе, мир, чувство достоверности бытия. Мир Божий, который превыше всякого ума, овевает сердце первозданной свежестью и чистотой. Музыка не управляет процессом преображения. Она просто есть, пришедшая из вечности и полная нездешнего покоя.3 Здесь не нужны восклицания, острые тяготения, напряженные предыкты, кульминации. Не нужна здесь драматургия, вместо лирики здесь онтология: преображение наступает от синергийного вслушивания в бытие. Из церковного искусства средневековья пришли к нам и выразительные средства. Например, — псалмодия. Она выглядит как повтор звука. Но нет, она — не горох, случайно рассыпанный во времени. Повторы словно бы нанизаны на стержень цельности, как бы на лучик света из блаженной вечности. Если нет синергийного вслушивания в тайну, а соответственно нет онтологического преображения души и роста достоверности бытия в ней, — тогда псалмодия распадается на равнодушие горошков. Так же синергийно воспринимается и хорал, ставший фундаментом и классической фактуры. Мы вслушиваемся в нем в ровность того, что называют силлабическим пением (тождественность слога-звука). Ярчайший пример — Гимн Советского Союза, написанный А. Александровым, регентом Храма Христа Спасителя в Москве до его разрушения. Почему он стал гимном, победив в 1943 году в конкурсе 174 других композиторов? Начать надо с функции, лучше сказать, с призвания гимна. Его музыка должна была стать незримой сердечной молитвой полутора миллионов советских людей, объединившихся в стремлении к победе в Великой отечественной войне. Много музыкальных средств задействовано в создании ее бытийственного величия, но без хоральной основы не было бы ничего. В припеве Гимна СССР к хоральной основе добавляется жанровое начало распева. В распеве на один слог приходится несколько нот. Он становится улыбчивым, наполняется радостью. Зачем эта добавка? Внимательной сосредоточенности псалмодии и силлабической хоральности мало. Они — выражение нашего усилия в предстоянии пред невидимым. А как передать ответы Неба? Для тихих веяний благодати, для славы Божией, раздвигающей сердце в бесконечность Вселенной — и требуется жанровое начало распевности. Дух Божий, проливающийся в верующих, воплощался также в мелизматике, фигурациях (в средневековом мелизматическом органуме, в фигурированном хорале). Без фундаментальных жанровых начал была бы невоможна и динамичная музыка Нового времени.
Но там и появилась новая синергия процесса, развития, расцвела в классико-романтической форме. В ней присутствует уже не только «вертикаль» света и радость откровения. Теперь она еще и нить Ариадны в лабиринте жизненных приключений. Показателен новый термин — мотив («движущий»): он — пружинка нашей воли. Где пружинка — там упругие отношения между началом, серединой, пределом. Асафьев дал этим трем этапам развития имена i: m: t.4 Их разделяют яркие синергийные цезуры.5 Разделяют, чтобы соединить разделенное в чуде. Скрепляющей все этапы силой оказывается явление вероятия — приятия верой чаемого будущего (например, в половинной каденции четвертого такта мыслью и чувством нужно жить жаждой чуда — заключительной каденции в восьмом такте). У гениев эта предвосхищающая связь времен огненна, вблизи Царства Божия, у плохих музыкантов — в тягомотине безразличия, ибо без чуда жизни нет.
Если синергия — первый столп исполнительской теории музыки и бытия, то вероятие — второй. Вероятие задается отношением способа к цели: синергии — к последней цели преображения и обожения человека и мира. Доминанта тяготеет к тонике, предыкт тянется к икту, вступление — к основной части, дробление — к суммированию. Но в плохом исполнении тяготений не разглядеть и в микроскоп, а в гениальном — они размером с Вселенную. Могучая сила — от интонационного запечатления последней цели творения мира: преображения и обожения человека.
На двух столпах (синергии и вероятия) не устоять исполнительской теории: огненные энергии духовной красоты (как и безобразия) должны воплотиться! Понятие воплощается в слове, а дух слова и бытия — в интонации. Итак, третий столп исполнительской теории — интонационная природа музыки.
Интонация, воплощение духа. Её звуковое тело многомерно. Оно подобно лицу человека, которое не есть сумма слагаемых (бровей, носа, овала лица), но есть язык, не знающий пределов в выражении бесчисленных оттенков смысловых (или бессмысленных, разнузданных) энергий. Так и интонация строится на взаимодействии всех сторон звучания (громкость, тембр, высота, гармония, артикуляция), скрепляемых энергийным смыслом.
Что общее и самое главное в лице и в интонации? Первым делом в лице распознается ранг высоты и красоты бытия. Кого-то влечет к себе сальный или наглый взгляд («А мой нахальный смех всегда имел успех», как поется в блатной песенке). Другие ищут света. Так и музыка (по мысли Иоанна Златоуста) отбирает себе слушателей: одни из них, подобно пчелкам, взыскуют небесных благоуханий, другие, словно мухи, слетаются на нечистоты в предвкушении зловонного пиршества. По сотворению человеческие души — пчелки, но по свободе выбора могут помыслить себя мухами — в том случае, если синергии предпочтут дизергию, разлад с восхищающими энергиями бытия. Синергия и дизергия — следствие свободы как возможности выбора себя, ибо любовь, как последнюю цель Творения мира и свободу бытия в ней, насильно навязать невозможно. По мысли Христа, на поле истории вплоть до жатвы совместно произрастают пшеница и плевелы. Генерального выбора не избежит никто. Но в интересах людей — распознать их различия. Высокая музыка и ее теория (в том числе и теория исполнительского искусства) задают этот ориентир сердцу.
Почему же музыка стала универсальным языком бытия и самым божественным из искусств? — По причине своей исходной синергийной закваски. Ее материал — не звук. Ее материал — тон: от гр. тейно «тяну». Тон — струна, натянутая меж сердцем и Небом. Это прямая связь, начало синергии как богообщения! От индоевропейского *ten- «тянуть» тянется множество важнейших понятий. Кроме тона — «тонус». Он выполняет функцию «камертона», как бы настройки жизни человека, общества, судьбы цивилизаций. Его высота определяется мерой синергийного притяжения и поощрений Неба. Высокий тонус — жизнь жительствует. А случаются в общественной жизни и времена гипо-тонии: упадка тона и тонуса. Тогда зацветает она плесенью формализма, бюрократии, имитирующих деятельность придумыванием указивок. Среди производных понятий от «тянуть»: интенция, интенсивный, тенденция, тенор, континуальный, тяготение, притяжение, интонировать (воспевать),
Приведем пример интонационного воплощения синергии. Вот как тяготение доминанты к тонике настраивает и выстраивает духовный тонус исполнения. Доминанта — самая небостремительная функция.6 Она тянется к тонике. Из тоники и на ее основе выстроен закон однотональности, организующий произведения даже таких масштабов, как симфония. Закон вытекает из онтологии. «Я — Господь, Я не изменяюсь; посему вы, сыны Иакова, не уничтожились» (Мал. 3:6). Точкой опоры и является постоянство и покой Промысла Божия.
Гениальные исполнители всей душой живут на высоте синергийных отношений. А никудышные? Да разве у них доминанта — небостремительна, а тоника — в небесной вышине? Скучного человека не пробудит огненность доминанты, не чувствует он и небесной радости тоники, и заповедь «ищите, и обрящете» — далека от него. Сравним, к примеру, разговор половинной и заключительтной каденций в теме первой части ля-мажорной сонаты Моцарта в исполнении Рахманинова и других пианистов, — и значимость сказанного становится очевидной.
Гениальная интонация — такая, которая пронизана синергией, вероятием беспредельной красоты Царствия Божия, несет в себе потенции духовного преображения бытия.
Строение исполнительской теории музыки
Без теории — не объять необъятного в едином взоре. Теория помогает. Для того содержит в себе концептуальное ядро и направленность к бесконечности проявлений. Ядро — как солнце. Без света глаз слепнет. Ядро открывает возможность умного видения. В его свете становятся видны подробности. Вот пример из педагогической практики. В среднем звене давалось понятие вторгающейся каденции. Оно забылось. А почему? Потому что не было явлено в нем света и смысла, а все бессмысленное забывается мгновенно. Незабвенно только чудо, когда оно прорастает в живую практику исполнительства.
В изложенном выше концептуальном ядре теории сплетены в систему ключевые категории, уже названные ранее:
- Красота — конечная цель искусства, связанная с восторгом бытия.
- Синергия — со-творчество человеческого устремления к наилучшему и божественного вдохновения: движущая сила искусства и бытия. Синергия в исполнительском искусстве — это взаимодействие человеческого усилия и небесного вдохновения, приводящее к возникновению красоты, которая возносится над суммой технических навыков и преображает слушателей.
- Исполнительский слух — инструмент поиска небывалой красоты, требующий внимания к деталям и целому.
- Триада imt — динамика преображения (инициатива человека → божественный подхват → чудо преображения; и снова, и снова на более высоких уровнях).
- Две взаимосвязанные, но в разной мере акцентируемые формы синергии:
- Синергия состояния (усилие предстояния, как пред иконой, вознаграждаемое вышним покоем души).
- Синергия процесса (усилие стремления, как в мотиве, пружинке воли, подхватываемой свыше, радости единения в чуде).
- Вероятие — приятие верой чаемого будущего, сила, скрепляющая этапы развития по формуле imt. Чаемое (исполнителем, соответственно и слушателем) — осуществляется! Это чудо радует и возносит душу ввысь. Вероятие осуществляет реальную связь видимого настоящего с невидимым будущим в творительном падеже бытия (синергия процесса описывает его сторонним взглядом, как бы в именительном падеже наблюдения, вероятие же видит его изнутри в творительном падеже участия в создании новой реальности.7
- Тяготение — стремление к цели (в гармонии — к тонике, в метре — к сильной доле; в бытии — к преображению и обожению). Глубиной принятого в музыковедении термина оказывается вероятие.
- Интонационное воплощение синергии. Ранги высоты и красоты бытия. Дизергия (отказ от синергии) как причина пошлости и иных безобразных отступлений от основного закона бытия — стремления человека и человечества к лучшему. Важной стороной синергийной интонации является запечатленное в ней вероятие, в результате которого настоящее и будущее сливаются в сотворенное им обновленное бытие. Без шедевров Моцарта, Рахманинова, иных гениев, реальность была бы иной, печально обедненной!
Концептуальное ядро исполнительской теории дает возможность обновленного видения всех частных теорий, созданных за историю человечества. Что освещать в области синергийной гармонии, когда бы не было понятий тоники, тональности, тяготения, введенных Фети (Фетисом в русской традиции)?
В нашем курсе я предложил синергийно-исполнительскую трактовку музыкально-тематических структур на основе асафьевской триады imt, всех форм в музыке от периода до сонатно-симфонического цикла, предложил новую теорию исполнительского метра. Говорили мы и о величайшем открытии — гомофонно-гармонического стиля и роли в нем аккомпанемента. О высоте и своеобразии эпохальных стилей и высшем призвании важнейших жанров. Все эти претворения отражены в соответствующих памятках (на сайте «Музыка в заметках»).
За рамками курса теории — следует иметь в виду и более широкий контекст исполнительской теории. Касающийся, например, психологии исполнительства. Как выходить на сцену, каким чудом должна быть наполнена предначинательная цезура, когда зал замирает в предчувствии небывалого? Как не допустить в себе разрушительного эстрадного волнения, а «думать о музыке» — то есть держать в сердце и воле тот ее особый дивный тон, ради которого она сочинена и должна пролиться на слушателей?
Крайне важен контекст музыкальной педагогики. Как научить тому, чему научить невозможно? Можно ли научить неслыханной красоте туше на фортепиано или полетному звуку на скрипке, или в пении чисто физическими двигательными приемами? Почему синергийные слова педагога (тяни-тяни, веди-веди) не всегда воспринимают дети, не чувствуют их синергийного смысла?
Мы выходим даже и в цивилизационный контекст. Для китайского уха указание европейских педагогов «тяни-тяни» — абсолютная бессмыслица в применении к музыке (за исключением скрипача, тянущего смычок). Слово «тяни» есть, но оно выражается в жесте, как из болота тянут бегемота. В европейской же музыке не бегемота мы тащим, а сами тянемся к Небу, потому что оно притягивает нас. Эта синергия не встроена в китайский язык. Потому наше «тяни» переводится, как «продолжай», — совсем не то! Продолжать ведь можно и свое. Продвинутая китайская нейросеть DeepSeek, видимо, поможет найти пути косвенного выражения того молитвенно-синергийного содержания, которое европейцы вкладывают в призыв «тяни-тяни».
В нашем же курсе «Музыкальной формы» (как теперь велено называть курс анализа музыки), мы ограничиваемся только самым ближайшим контекстом истолкования музыки исполнителем.
На экзамене при ответе на вопрос об исполнительской теории нужно привести хотя бы один собственный пример красоты как синергии из любой области организации музыкальной формы (гармонии, фактуры, метра, синтаксиса, типа формы-композиции) и истолковать его в исполнительском ключе, — ибо экзамен проверяет не качество памяти, а понимание предмета.
_________________________________________________
1 Развернутое изложение теории можно найти в статье автора «Исполнительская теория музыки» // Музыкальная академия. 2023. No 3. С. 216–235.
2 См. Эмфатический акцент («здесь и сейчас» в музыкальном исполнительстве)
3 Движение аутентичного исполнительства скрытым подтекстом имело освобождение старинной музыки от установок позднейших веков музыки. Например, вибрато в выражении страстного чувства (а не украшения наподобие трели на пенультиме) ввел Паганини. Чистое же звучание без вибрато больше соответствовало музыке, в которой преобладала синергия возвышенного состояния.
5 См. Исполнительская теория музыки
6 См. Доминанта как откровение и чудо
7 В творительном падеже бытия и мысли теория оборачивается стратегемой. Ее главный вопрос: не что это такое и почему, как в теории. Исходная точка отсчета в ней — ради чего. Ради чего Бог создал мир? Это стратегема. Конечная цель бытия, Царство Божие, для нашей жизни оборачивается притяжением красоты, из которой в нам текут энергии вечности. Будущее становится синергийной причиной настоящего. Сверкающий красотой замысел шедевра — является причиной его рождения «Законченная партитура =— испорченный замысел», — говорил А. Шнитке. Подробнее см. Стратегемы музыковедения.
____________________________________________________
Ниже автор предлагает текст лекции на китайском языке, выполненный с помощью нейросети DeepSeek辅助译本
при участии студента МГК им. П. И. Чайковского Ян И.
表演艺术理论讲座 В. В. Медушевский
Текст лекции для китайских студентов
PDF, ≈13 МБ
Вы можете помочь «Музыке в заметках»
Комментарии
Вы можете добавить коментарий в группе VK или Одноклассники.